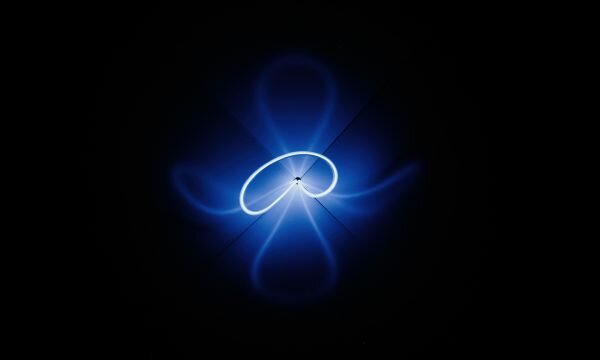Подкасты
Рассылка
Стань Звездой
Пленительная привычка — 2019
Для меня, как это ни странно, «лихие девяностые» начались в 1990 году, когда я поступил в лицей при Пермском государственном университете имени Алексея Максимовича Горького. Ну, как поступил, так как обычно шёл мимо. Я тогда закончил 9-й класс в незабвенной школе № 86 на Шпальном (более известный как Парковый) и надо было что-то делать дальше. К слову сказать, когда я поступил в 86-ю, она была восьмилеткой, но за пару лет до моего окончания к ней прибавили два класса, но суть от этого не изменилась, школа гладиаторов осталась школой гладиаторов. Чтобы вы понимали, о чём речь, в 9 «В», в котором я учился, было 42 человека, сейчас из моих парней-одноклассников живых и на свободе, дай бог, наберётся десяток.
Так вот, объявление о наборе в лицей мне показала моя девушка, которая была на три года меня старше и что-то там уже думала о будущем. Я подумал, а почему бы нет, и в урочный час пришёл в пятый корпус ПГУ на собеседование, которое началось с вопроса: «А что вы сейчас читаете?» Ну, и тут Серёжу понесло. Читал я много, всегда и везде, даже умудрялся прочитать пару строк в тревожные минуты накануне очередной уличной драки. Я тогда одновременно читал Мережковского, Рыбакова, Зощенко, Булгакова, Пастернака, Бодлера, Набокова и кого-то там ещё, это не считая всяких толстых журналов, которые тогда ещё не умерли, например, «Киносценарий». Насколько я помню, самое яркое впечатление на моих собеседниц (а как ещё назвать двух прекрасных дам, которые проводили собеседование?) произвёл мой разгром «Детей Арбата». «Ну, что это за чёрно-белое кино, если герой
Лицей тогда находился за Камой
Первые дни учёбы
Но Лицей показал свои зубы уже через пару недель: из него вылетела завуч, её точно звали Маргарита, отчество не помню
Как вы, наверное, уже догадались, я учился в литературном классе: нас было человек 15-16 из них три парня
Но вернёмся к нашему сюжету. 1 сентября мы начали учёбу в новом учебном заведении, а 19 октября в этом самом заведении должен пройти первый день лицеиста, а времени в обрез. Тут включилось общественное сознательное, бессознательное и что-то ещё. Основная канва праздника
За несколько минут до начала торжества я случайно услышал разговор чиновника от образования и одного из наших учителей, в котором прозвучали такие слова: «А теперь вам надо придумать свои традиции». «Придумать традиции»
Прибавьте сюда непростые отношения с местной шпаной. Все эти «дай закурить», «деньги есть?» и т. д., и тут тоже произошёл очередной разрыв шаблона: пацаны пришли трясти ботаников, а ботаники стали их бить. Или ещё хуже: ботаники приходят к училищу, в котором учатся эти пацаны с другими ещё более пацанами и начинают трясти их. Нет, ну, по-разному, конечно, бывало, но мне тогда было проще: во-первых, шпалинская закалка, во-вторых, у меня уже тогда была пара хороших знакомых на Пролетарке и Железке, и было кому спину прикрыть, если чё.
А ещё, как это ни странно, мы учились, и учились хорошо. Я как-то незаметно для себя понял, что одним из стимулов к учёбе для меня стало уважение к своему учителю. Ну, как-то западло зайти в класс и что-то там не дочитать или не дописать.
В те времена весной в Перми проходила областная конференция учащихся, или что-то вроде того. Циала Георгиевна думала, что я на неё поеду и сделаю доклад. А я что-то не поехал, что-то мне помешало
Дикошарость
На премию (79 рублей) я купил вино «Чёрные глаза», которое мы благополучно выпили в одном из общежитий ПГУ, там тогда жили лицеисты, приехавшие из других городов. А на оставшиеся деньги купил цветы и поехал к своей учительнице, которая, учитывая предыдущий опыт, на конференцию не пошла. Помимо красных роз, я привёз диплом, подтверждающий, что первое место моё, который вроде так у неё и остался. А у меня осталась запись в аттестате об этом событии.
По средам мы учились в ПГУ, в восьмой «общаге», и нам читали лекции преподаватели универа. Для них это было не очень-то удобно, потому что занятия у нас начинались рано утром, а на филфаке
С тех пор прошло больше четверти века, но и по сей день почти все мои друзья-приятели
Рекомендуем почитать


Зарплаты учителей и кадровый голод. О чём умалчивает рейтинг пермских школ
Новое на сайте

В Перми впервые выступит пианистка Варвара Мягкова с программой «Священное и мирское»

В Перми сменился глава фонда «Городские проекты»
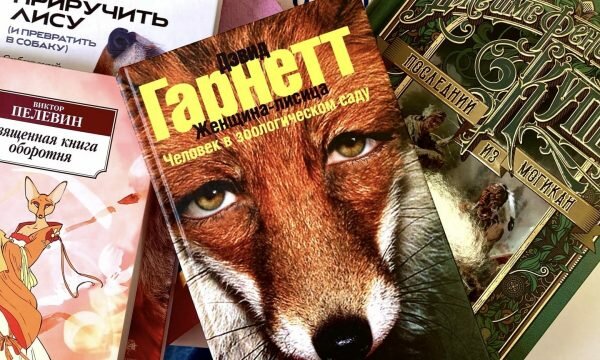
Рыжие, смелые и хитрые. Семь книг о лисах, оборотнях и их помощниках

Суд вынес предупреждение ЧОП, которое охраняло ПГНИУ в день стрельбы. Сотрудник вышел на работу без лицензии
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель ЗАО "Проектное финансирование"
18+